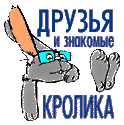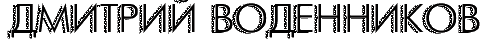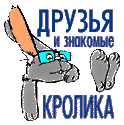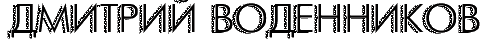ЕДИНСТВЕННОЕ ЭССЕ
1. В моей жизни было мало чудесного. Только в последнее время что-то сдвинулось. Так, например, возвращаясь из Тамбова, я угадал имя своего попутчика (почему-то мы не сразу представились). Или вот увидел неприятный сон, томительный психологический кошмар, который я неоднократно видел (хотя уж этим-то никого не удивишь) - и вдруг понял, что могу прокручивать особо неприятные места на скорости, как это бывает на видео или на профессиональной магнитной пленке.
Но некоторые вещи меня потрясли особо.
2. Одним из таких чудесных потрясений для меня стало открытие автобиографической школы. Оказалось, что есть поэты (а их немного), физически неспособные писать ни о чем, кроме как о себе. Безошибочным способом их вычисления я счел то невнятное, но сильное чувство обиды, которое неизменно возникало у меня при чтении подобных текстов (ведь о том, что любая чужая жизнь оскорбительна - я знал уже до этого). А позднее я научился еще одному приему: если из этих поэтов вынуть их биографию, действительную или воображаемую, то они рассыпаются, убывают. Что, кстати, не является таким уж всеобщим правилом, как об этом часто принято думать.
Также я понял, что только такие поэты и называется моими любимыми.
3. Второе потрясшее меня открытие я сделал днем в состоянии сухой сознательной ярости, обычно заменяющем мне мыслительный процесс. Я подумал, что если и стоит говорить о полюсах воображаемой автобиографической школы, то Сергей Гандлевский и Елена Шварц при всей очевидной разности своих тактик (и наверное, враждебности) - поэты одной стратегии. У меня и до сих пор сохранилось ощущение, что мое хищное, требовательное читательское впечатление единственно верное. Я и теперь уверен, что механизм их писания - всегда есть желание сказать всю правду, а значит, сказать о себе. Аграфия одного и многописание другой ничего здесь не отменяет, ибо зависит от человеческой недюжинности (притом, как понятно, отсюда не следует, что пишущий много и хорошо это лучше пишущего хорошо и мало: и та, и другая позиция одинаково безнадежна и героична). Мне нравилось и нравится, что Сергей Гандлевский, настаивающий на физической, фактической правде (тогда как Шварц - на правде физиологической и психологической), всегда приурочивает свой текст к этическому внутреннему жесту. Иными словами, над каждым событием, описанным или отрефлексированным Гандлевским, всегда угадывается значок, заветный вензель, удостоверяющий его непридуманность. Иногда даже возникает слегка комическое подозрение, что усомнившемуся Гандлевский эту самую непридуманность всегда сможет доказать, возможно даже предоставив справки и уведомления. Хотя если вдуматься, ничего смешного в этом нет. Ведь в чужую жизнь никто не верит за просто так. Она никем не оберегаема, потому что неуместна. А значит ее надо оберегать и доказывать. Отсюда и необходимость пафоса, а чем человек противоположней пафосу ситуации (например, постмодернизма) - тем он привередливей и человечней.
Со Шварц совершенно иначе: она скорее чудовище, а человеческий пафос чудовищу ни к чему. Точнее сказать, он у нее свой - нечеловеческий, сновиденческий. Она сама достаточно емко определила свое квази-самолюбование, с которым вглядывается в себя “с опасным вниманием эксприментатора, с каким он может следить за животным, опыты над которым наконец-то начали подтверждать теорию”. Шварц может существовать всем (и даже себе) параллельно - и с этим уже ничего не поделаешь. К тому же здесь ей приходится верить на слово, т.к. недоверие не безопасно.
Но как бы то ни было - в обоих случаях перед нами, условно говоря, дневник. Или в случае со Шварц - антидневник, понимаемый скорее как документ несостоявшейся жизни, документ о вещах, которые могли бы произойти, но так и не случились. Но и это ничего не отменяет, ибо они все-таки наличествуют в твоей памяти, а тогда уже не понятно, что такое жизнь - только ли череда свершившихся фактов или же череда, которая, не свершившись, питала нас и обнадеживала. Сюда же, в эту категорию попадают и сны, которые нам снятся.
Определив условные полюса воображаемой школы, несложно и дополнить список. Все то же самое меня подкупало и в Белле Ахмадулиной, и в том же Бродском (впрочем, его, кажется, еще волновали проблемы языка), в Яне Сатуновском (что еще более подчеркнуто систематизацией стиха: их принципиальной хронологией), в Тимуре Кибирове.... При всей несоединимости этих имен, замечу, что в их “дневниковом” подходе к писанию, есть нечто их объединяющее: в стихах им совершенно нечего стыдиться. Хотя в этом, на мой взгляд, заключена не только их сила, но также и их слабость.
4. После всего этого я вынужден был сделать выводы, которые раньше сделать боялся.
Во-первых, я признался себе, что от чужой жизни (в том числе и поэтической) мне нужна только моя жизнь. Т.е. то, что пусть даже самым смутным образом, но имеет отношение к моей судьбе, к моей собственной биографии. Таким образом я дошел до мысли, что просто литература, просто искусство меня не интересует.
Во-вторых, я больше не согласен с расхожим мнением, что поэзия - это лаборатория каких-то добавочных смыслов. Это почему-то показалось мне ужасной роскошью, меня унижающей. Тут же я подумал, что в этом смысле сборники уже умерших поэтов (обычно “Избранное”, т.е. там, где нет случайных стихов) производят весьма приятное впечатление - по крайней мере понимаешь, что и в какой последовательности сказано, а также, чем дело кончилось. Проще говоря, создается ощущение, что ты имеешь дело с уже выравненным, “настоящим” сюжетом. Не по той ли же самой причине - заметил я недавно - жизнеутверждающие стихи в посмертных публикациях выглядят вообще неубедительно?
Ну и в конце концов, мне стало жаль, что поэзия - давно уже не театр, что она может позволить себе нас не развлекать, не поучать и не поражать. А если и развлекает, то делает это каким-то плебейским образом, почему-то смеша или загадывая ребусы. Имея естественное желание сострадать и быть сострадаемым, мне жаль, что мало кто ставит перед собой глобальную жизненную проблему, от решения которой все и будет зависеть, даже если проблема поставлена неправильно и это с ужасным опозданием будет осознано. В любом другом случае у меня крадут чувство жалости и восхищения, что в сущности одно и то же, - а это очень неприятно.
5. И последнее. Случилось так, что о некоторых вещах я права говорить не имею, т.к. не знаю. Прежде всего это касается жизни страны и ее истории, особенно той, что до 85 года. То есть я, конечно, жил в это время, но жил в каком-то забытьи, в затянувшемся младенчестве - и только теперь проживаю и детство и юность, потому что все ведь знают, что и то, и другое проживается дважды, только второй раз по-настоящему, в воспоминаниях. Но если верить людям (а у меня нет основания им не верить), после того, как все рухнуло, пишущие оказались без оппозиции, их отторгавшей и, значит, питавшей. Последствия известны, о них уже писали все, кому не лень. Мне лень, поэтому скажу очевидное: эта проблема почти не коснулась тех людей из моего поколения, которые мне интересны. Мы сразу оказались наедине с собственной жизнью и вопрос личной биографии - жалкой ли, поучительной ли, шумящей, щипящей или еще какой-то - явился единственным и, следовательно, главным.
Если вкратце и жестко определить то, что мне нравится в новой поэзии, - то скорее всего, это будут молодые поэты, склонные к самодоносу.
Самодонос - здесь, конечно, понимается не как приступ дурной правдивости, в которой действительно нет ничего хорошего, и не как экстремизм тематики и лексики (этим уж точно теперь никого не удивишь). Возможно, речь здесь идет о сложном взаимоотношении с миром, когда пристрастное внимание к своей биографии заставляет автора становится героем одной темы (ну, м.б. двух), при этом подчиняя пишущего закону лирического цикла, размеры которого трудно вообразить. И дело тут не в модели поведения, и не в системе масок, а в убеждении, что люди действительно занимаются не поэзией, а своей жизнью. Отсюда и вера (ведь на самом деле веришь не стихам, веришь авторам), которая, впрочем, скорее затрудняет разговор, нежели ему способствует. К тому же говорить о чужой жизни всегда - и справедливо - считалось не очень приличным.
Потом одно дело самодоносительство, а совсем другое - тривиальный донос. У меня нет никакого желания становится литературным Азефом, выносящим в цитате то, что можно вычитать только из целой книги. Поэтому лишь назову имена, наиболее близких моему сердцу авторов: Вера Павлова (“физиологический самодонос”), Дмитрий Соколов (попытка социальной конъюнктуры), Александр Анашевич (с его личной драмой никакого отношения к фамилии не имеющей), Станислав Львовский и др.
Конечно, дневник дневнику рознь. И это все понимают. Понимаю это и я. Очевидная слабость этой статьи становится еще очевидней, если учесть я не говорю ничего принципиально нового. Получается какая-то странность: я как будто защищаю нечто, что защиты не требует. И при этом меня не покидает уверенность, что без моего заступничества здесь не обойтись.
На этом я, пожалуй, и позволю себе закончить. Нельзя долго писать о стихах. Ибо в самой их природе есть что-то неприятное, женское: сначала ждать, потом - нравиться. А это заражает, и тогда уже сам факт писания о них тоже становится делом сомнительным, эгоистическим. По крайней мере, ни в том, ни в другом случае ты не уверен, что твое ощущение личной искренности, дает такой уж убедительный результат.
Впрочем, ко всем другим вышеперечисленным это замечание отношения не имеет.
|