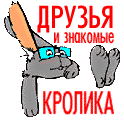

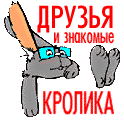 |
 |
* *** В стоячих узлах человеческих волн, где вспышка ладони, как окрик совы, упруго наполнит зияющий сон меж взглядом и зеркалом взрывом листвы. И это как тень, потому что — дышать и этим выталкивать вес над волной. Чтоб слушая ветер, как птичье гнездо, ты дом себе строил, скрепляя слюной. Свернувши в ракушку докуда достал во сне под подошвой растекшийся взгляд. Так туго прессуют прозрачный кристалл, вбивая по шляпку в прочерченный ряд. Откуда ни выхода нет. И ни зги. Лишь что-то по коже порою сечет. Но камень со дна всё пускает круги. На ринге закончился счет. *** Вот и за тобой пришел ветер. Зеркало распрямится и задумается о Евклиде. Что и прежде, но тебе на другом сто́пе, где приводные нити будут натянуты по-иному. Чтобы солнце не из-за как обычно, а из подмышки какого-нибудь истукана. Плексиглазово, слишком, для при помощи присосаться на вертикальной стене. Сам себя ковыряться в матрице, запаянным в колбе плевок не вычистишь. Тогда говорят — мороз. Или — наст. Или. Среди множества луз и лунок на 54 части расколешься — и то мало. Так бы и жил с предположением, которое — лишь молока в блюдце — и отойти за угол. Такова, например, ночная фиалка — одновременно не вдыхать и видеть. *** Стрела — это тоже воздухоплавание, что ли? Но почему так нервно? Начинаясь от Лаокоона, от его — не успеешь сморгнуть в сторону подаянья, до — как будто всегда росла, плодонося щеглами. Тем более что уже ноябрь и пристально. И все «было» заполнили всё межзвездное, как и ты собой — где уже будешь. Так резко, на (каком как знать но непременно) кадре нам стрела открывается, указующая опереньем. Именно так и именуется в старинных текстах: «Памяти промелькнувшей тени», подразумевая: «где воздух ныне чист и прозрачен». И железно, по правилам преломленья: если входит в правое ухо — из левого выйдет лом. *** Азия! — скажет майор полковнику, в кровь язык о нёбо сдирая, стряхивая семена, прорастающие в темя. Азия! — скажет полковник майору, перетаскивая тело собственное, как мешок с купоросом, через борт джонки. Азия! — ответит эхо обоим, но скорее в луны жерло, заискивая. Азия! — рявкнет рация, срывая резьбу и ногти. Азия! — по стеклу железо поползет, соскребая в кишках эпителий. Азия! Азия! — один другому в промежутках между ударами по голове сапогами. Азия! — выходит с долгим воздухом из оторванного хобота противогаза. Азия! — говорит небо, даже если молча смотрит с презрением. Азия! — в семь часов никогда не бывает девять, на плечи с дерева прыгая. Азия! — казачьим хором, с посвистом, клацая шашками, искры из печени — Азия! Азия! — помпой сердца гнилую воду вычерпывать, дошедшую до подбородка, которым полковник говорит майору в приступе Азии. *** Они уже здесь больше не будут. Ушли их овцы, жены и паровозы. Рельсы лежат, задрав рубаху, прокуренно. Вторая весна, а цветы уже не боятся, переходят, задумавшись в зеркало. Синяя ночь у них, звезды пока еще рикошетом, вдаль цокая, еще не ржавчиной по векселям. Однако подросло поколение, устраивающееся щекой на нежном металле, надышавшись масла или вкатив пару кубиков. Взасос с плеером, который интимней зубной щетки. Это которые под радиолу — ходили стадом, носом дышали в форточку и не путали Тынду с женским органом. *** Случайным цветком, что колотится головой о кирпич на ветру. Так и проходит жизнь бликов листвы, бессчетных глаз дерева — кому неподвижен голубь утренний и вечерний, пересыпающийся в калейдоскопе бесконечного детства симметричной кляксой насиненных век, расходящихся веером, вереницей бессчетной, пристально-нежной, где ты — случайным цветком, что колотится головой о кирпич на ветру. Словно чей-то. *** Это называется просекой, бинтом несвежим поверх длинного ножевого пореза. Но не оглядывайся через плечо. Иначе не застегнется застежкой-молнией, куда подбородок тычется в поисках скрипки. Осенью. По пояс во сне. И все глубже, лишь голова, покачиваясь по течению, параллельной просекой, чье небо — страна коршуна, вывернутого наизнанку, где ты ничтожным свинцовым шариком, но не оглядывайся назад, чтобы два удара столкнувшись твоего сердца не захлебнуться, не захлебнуться удивлением медленно выступающим как синее протертое не имеющим смысла крылом *** Призрак дома приходит, когда зима. Когда кровь отхлынет. Лампа вытечет из-под двери. Пустота всосет тебя и швырнет за стол, как в разрыв цепи вставляют ничтожный обрывок эха, которое уже не знает — где день, а где дождь. В телефонной трубке шуршанье листвы твоих высохших слов, гонимых ветром, лениво пиная консервную банку, кажется, вдоль. И это уже не твоё — ты сам всасываешься против часовой стрелки... Но, к счастью, система канализации впадает в мировой океан. Таковы шесть свойств призрака дома. *** Жить при паровозе, в землю вросшем. Жить при последнем из теплокровных машин. Жить при доверчивом, у которого голос рад, когда вечером ты из города еще только точкой на кромке поля. Оближет, снимая чужое. Голосом, от махры хриплым, жить при. И знать лишь ладонью и ухом — где больно, но сказать не может. В мороз и слякоть жить при и одной укрываться шкурой. И одним полем. И ночью строгой сквозь седой щетиной торчать, пугая случайных блядей. *** И руку из котла с кипящей смазкой доверчиво навстречу путнику протягивал, как будто лес осыпанной листвы навстречу заморозкам, когда рассеянность — последний путь к спасенью. Разъятьем ребер выпуская в пустоту и замерзая на потухших окнах морщинистым расплющенным лицом. Былой красы, увы, не миновать — как долгий маятник искусственного сердца, меж выдохом и вдохом выйдя на дорогу, которой все равно куда вести, вокруг тебя вращаясь стрелкой — резьбой по кости — снимая слой за слоем, вскрывая утробные сюжеты: охоты, колдовства, войны... И отдыха от ратных дел, отведенного для плача Ярославны — протяжно с луны безгубого лица. *** Что тебе до ночи синей — древесная смола едва — иссякнуть в шорохе — где чей блик не твой, но сквозь прикосновенья прорастать вспять снегом, невесть куда, где неуместно «поступь», а «шелк» лишь как «скользить», пересекая бессильный на излете взгляд, обугленный в цвет буквы. И только шепотом, губами листьев будешь выпит, чтоб здесь уже не быть ничем иным — лишь ласточкой, оврагом, лодкой. или ладонью растрескавшейся землей САД Здесь можно сказать: «Хозяин, некогда взлелеявший, не вернулся с Империалистической». Поэтому и стоит уже сам свой, для себя, о себе, собой, про себя... Запущенный корнями в грунт, ища холст. Что ты ему можешь сказать, пока не зарыт в это сплетенье, в эту текучесть отложений на черный день? Что он тебе скажет, стряхивая птиц и листья? Что ночи стали длиннее? Что детям пора в школу? Скажет тебе?! Чей позвоночный столб пророс извилинами в два полушария, изредка шелестящему пальцами ног. Разве ты способен перемещаться? Выдернуть корни и пойти? У каждого свой сад. Твой сад — этот. Потому что снится. И может смотреть глаза в глаза. Данный как опыт из учебника шестого класса, раздел «Диффузия». Помешивая чайной ложечкой ночь. ПОЛНОЛУНИЕ в дымке слоящейся льющая вечнозеленый свет свой долгого имени стеклянноприимного окриком шелестом пристальным корнем царапины льнет полнолуние клейкими листьями выйдя из дома подхваченный ветра ладонями губ удивлением в стремени имени что тебе кинется под ноги дымноприимного в этой текучести что тебе что тебе что тебе близится чтоб выкипая глазами слушая пальцами пристально локон и линию странник бредущий за бликом ступая в следы рикошета теплые ласточки черной ласточки белой пунктир поцелуев так зашивают зияние мира чтобы рыба хвостом понимала и всплеск и нерест слово «слиток» шипит в воде остывая и уходит на дно обрастать ворожбою корнями любовью *** Дитя циклона сумрачным отливом волос отбрасывает отблеск свинцовый и целует жало, вдоль бедра скользя, как шелк безводной глади, колеблемый причудой света, поглощает сеть миллиметровки, накинутую на лицо судьбой. Или как всплеск в глубинах зеркала — не нам, не наш, но знак литературы, прямоугольник сна. *** Кто сказал, что берлога пустеет не родами, а всего лишь нарыв? Как из кларнета — не угадаешь, откуда следующий звук высунется. А медведь — он и есть махорка и рассудительность по периметру. В весеннюю чащу руку по локоть засовывая, вряд ли дождешься ответа эха. Это тебе не на фоне задника, когда выстрел носится по рядам и под кресла заглядывает в поисках Ленского. Ночи никогда не сотворить столько зла, сколько дню. День ворочается в объятьях бессонницы. Флаг любого демократического государства в отсутствие ветра ничем не отличается от «Ну-ка, отними!» Это только один олень носит окаменевшую молнию, которой вслушивается в какую-то свою звезду, когда закат так небрежно бреется. *** Когда толпа отхлынула, обнаружился желторотый совсем лейтенант, чья речь впоследствии была приписана царю Соломону. Расходились задумчиво, не попадая в следствие. Закат на устах каждого розово вспенивался. Уходя на тропы, опрощали народный говор. Буксы все уже были потушены. Закапывать и выкапывать больше не имело смысла. Чья ночь — каждый знал — общая. Переход в четыре собачьих приплода приближался ко второму зачатию. И беспрерывное прихрамывающее кукование. Народ устал, народ зол, кони давно не поены. Тем более что утренние переносы звезд сеют хаос и панику. Ничего кроме паники. *** Две параллельные или деревья наперегонки — несказанная красота процесса. Семафор ведь тоже — зеленый, а потом красный. И снова весна. Бабочка наизусть или всплеск окуня — на то и плацкартный, зажмурясь. Русскому есть где умереть — большая погода. *** В Вестминстер! — он кричал. И хвоя осыпалась. В Вестминстер! — морозный воздух ярче чем неон — и вдаль, и вкривь. И ночь не ночь, а лишь мешок на голову. В Вест-мин-стер! — кричал надсадно. На эР вибрируя, перемешивая за спиной: табак, соль, гильзы, порох, спички. Пар шел столбом, скрывая 18 звезд и 6 коронок. В Вест-мин-стер! — на пределе, когда огонь, засасывая спичку, доходил до пальцев, обрубая даль. В Вест-мин-стрер! — волки молча и потупясь, не находя знакомой “У”, разинувшись вокруг. Ожидая знакомого “сУр-гУт”. Но всё: В Вест-мин-стер! — вмерзая в шапку. No questions. *** «Гражданской похотью томим». Число и подпись. Сгущались тучи Тчк. Лейденская банка, шланг, подсос. Оксюмороном перейти на запасной. Отсечка. На хорошей амплитуде. Уже вокруг, ощупывая раздвоенным, франко-итальянским. В правом нижнем время, насыпаясь. «P.S. Уже объятый». А он все зиждется… Отбой, короткие гудки. «Пузыри асфальта» — лучше не придумать. Вдали уже как в прежде. Сворачивая шум в рулон. Так выцветает мак, ночь входит в день, младенец — сгусток крика роженицы. ПОЕЗД ТРОНУЛСЯ. Вначале головокружением. Потом — пунктиром. И совсем — стеной, пульсирующей, словно мозг. Тень задувая, как свечу… Поднимешь руку — Все-таки есть еще над водой немного воздуха. *** Медленным дятлом войти в дерево. И сжаться до размеров сердца — по волнам — у которого зрение — дальней дорогой, останавливаясь на развилках, — знает, а потом уже видит, как ветер меняет окраску, а жадные жабры земли и лета из дня высасывают время зимы. *** Третий аист принес им точку. С тех пор их птица — дятел. Скрип хитина. Так нанимаются на работу где-нибудь накануне лета, не отражаясь в лицах со стершейся амальгамой. В паровозном котле, потухшем, словно Помпея. Поэтому снег уже не боится положить лапы, уткнуться мордой. Меланхолия — это отнюдь не бессонница, а сквозняк, вымывающий душу. По рассеянности вместо пиджака повесить себя. Чтобы, когда затрещит разрываемый шелк легких, понять самую примитивную в жизни вещь — множественность параллельных миров — это геометрическое место точек, пробегаемое Землей. Но об этом знают лишь только деревья. И смоковница была заодно с Христом. *** ...и ему, в общем, до фени, что телестудия — это дом, вывернутый наизнанку. Для него важнее всплеск сердца, пытающийся повториться спустя три часа, из коих — первый лжив, а второму не дожить до получки. Ну а третий — нон-стоп, конформистская рожа, от уха до уха заря обернется раз пять. Вот он и ждет, и ему не поет коростель, и дождем не съедает росу. Ветер в шинах свернулся клубком. Запах жасмина — распластанной лужей. Собака его обходит и несет улыбку или грусть на лице. Ворона тоже над ним боится. И лишь машинам лень и не страшно испачкать ноги. Они подпрыгивают весело, словно девочки, играющие в классики. Да, пожалуй, и не замараешься — поскольку ртом он уткнулся в сточную решетку. И уже всматривается в улетающее свое тело, в улетающую, кажется, Землю, высчитывая период вращения, словно не спится. Как по кочкам, с междометия на междометие, когда Колумб накачался чаем. *** Надрез изнутри тела обнажает зеленость мира не для беззубой раны. Жил ты уже или нет еще — это как разница велосипеда и стрекозы. Это такая погода у выхода, как мениск. Чтобы последним вдохом вытолкнул ты себя. Поскольку такая рана — лишь для заметания мусора, а вовсе не Аустерлиц, где на чудовищной пуповине змеем людей пугать. *** Как в зеркала глядеться в мифы. Или остановиться ветром, утаивая зверя. Так в шарманке моря, быть может, лишь одна звезда, рассованная по тысячам карманов. Как трава. И некуда спешить, поскольку — всюду. В тысячеоком рикошете всегда светло тюрьмы, не сложенное даже, а спрессованное археологично над головой, куда отходят рудименты. Всё ниже свод, стрижи уж у виска. Две вавилонские бригады вот-вот сойдутся. Забьют серебряный костыль. Но почему-то непременно в горло! *** Дереву ночь — ходить за тобой, сон твой терпеть, отсасывая как укус или черный желток. Стекая — под прозрачность земли, которая помнит всё сквозь трещины-ветви. Дереву не закрыть век, догорая ночь. И если ладонь — это спил, дерево пристегивает тебя, как протез. Кто не умеет ждать. *** Последний грибник выходил из безмолвного леса и медленно брел мелководьем туманного поля. И долго маячил вдали бесполезным отвесом, поскольку деревьям иная неведома воля. Уходит последний рассудок в зрачок семафора. Качается низкое небо в прожилках ветвей, на сотни осколков разбилось лицо из фарфора, в мерцающем клекоте клин перелетных бровей. Безветренно. Кроны радарами слушают шелест полярных снегов. Онемевшим апрелевским диском вращается пашня. Вдруг резко, навскидку, не целясь мелькнет ржавый лист у виска с металлическим визгом. *** Не хочется осени, что как отдача в плечо. Как, впрочем, не хочется лета, зимы и весны. Приходят, и надо с часами ходить и еще — высасывать ржавую кровь из распухшей десны. Наступит ли время набухшее тучей на мир, чтоб выбелить землю к утру нескончаемым утром? Вцепившимся в почву прочней, чем колонна ампир, чьи корни втрамбованы стадом панельным, приблудным. И дерево деревом будет, и будет столом, и лодкой, и стопкой бумаги, крестом и огнем. Забытая шахта всплеснет реактивным крылом. И тут же прозрачным питоном скользнет сквозь проем окна слухового и скрутится в долгое эхо под черепом конским, уснувшим в углу «Ремингтоном». Под шкурой компьютера дернется нервно помеха — гомункул, сучащий ногами во чреве бездонном, трефовый плацкартный валет, ветряная трещотка... И медленно выпадут камни из высохших стен, и будут кружиться над полем, как голуби, кротко. Уткнется волна головою в песок насовсем. И маятник станет ногой, занесенной над бездной. И будет заметно, как медленно дышит земля, как родинки-горы грохочут на ребрах железной стиральной доски параллелей, судьбою пыля. И город сквозь город пройдет, раздвигая, как ветки, колонки газетные, райские кущи салюта. Но вдруг потеплеет, и резким возвратом каретки дефис оборвется, и маятник срежет минуту. *** Как в аквариуме — в звездной тишине лес, поляна и дремучая вода. Пусть пребудет это всё в спокойном сне и вчера, и год назад, и никогда. И нытьё мотора, словно сквозь века датский принц или татарская орда. Вот рука, моя озябшая рука… И вчера, и год назад, и никогда. И уходят сквозь огромное окно молча письма, песни, люди, города… Страшной силою спрессованы в одно и вчера, и год назад, и никогда. *** В устье красивой раковины, пустого жилища моллюска, смерча времени, уходящего жадной воронкой в точку схождения рта с глазами, глаз с болью, боли с голодом, голода с позвоночником, позвоночника с прибрежным песком, всего лишь вчерашний закат лениво раскручивается. И, как пленка бензина, то синий бок выпятит, то розовый, то изумрудный, то проступит лицо половчанки. Но вдруг эту бездну, вошедшую в штопор, в судороге, в спазме вывернет рёвом реликтовым. И море отхлынет от суши, песок побледнеет. Затылку младенца приснится ручонки шаг длинный за холм, и занозы деревьев в ладони, и теплая сладость в разорванном брюхе. *** Всё! Они ушли! Сомкнулся над последним воздух, ресницами разбитый на дорожки. Лишь флюр из глубины мерцает. Поздно делать пальцы, как лицо, когда их выбор десятью свечами. Поздно возрождаться, чернотой в ночь капая, в звук дна, пинаемый. Чем судорога лошадиной шкуры не волна, дающая дышать?.. И безотвязно. Где оно — дышать — наметит свой пропил на восемь лет опилочной поземки? Мнемоника не лжет! Осточертело подносить к губам святыни — помутнеют или нет? — играя в мертвецов. Входя в свои зрачки со свистом, с хрипом, когда высасывает из затылка мозговую пулю ствол. *** Капля стекло проползет, не минует и часа, где ей удобней, насквозь, от воронки к воронке. И дальше — где без меня — где Будда мельницу крутит, всю в детских ладошках лопаток. Да, я, конечно, должен, немало. Словно тюрьма зарешеченных клеток. Слезы украдкой, не веря в счастье побега. А им хочется в небе жить, составлять картинки, где ничто не поздно в зрачке воронки. Это как на рентгене — где я облачком незамысловатым — повесить на стенке, подставить березовую жестянку и ножом надрезать, чего же боле? Здесь такая погода — ничего не ходит вверх, кроме лифта. Да и тот — зажмурясь. *** Парашютист — марионетка неба, играющий на стропах в предзакатный час, ворочая ногами, немыми, так бы и жил, рассеянно табаня. Неторопливо проявляясь утром универсальным «ИКС». Или поверх дождя, тень ватой кутая. По вечерам — покачиваясь на волне, как чей-то выдох, ленивая бутылка SOSа... Выцветая. Но не как салют. Как вены. Дятел прилетит. Пройдет кровавый дождь, грибной. Крестьяне соберут богатый урожай. *** По белым стиральным пескам каракумским, где тени барханов, как тени верблюдов, бредет, удаляясь, мужская фигура — уже в отдалении. Выходит из рамки, уходит из фокуса (поскольку лежащего взгляд неподвижен и больше не тянется, как паутинка). Бредет, удаляясь, уходит из фокуса. И вот уже маревом сонным колеблется, в просторных, струящихся в небо, одеждах (слезится взгляд мертвого). Вот уже маревом, дымом фотонным исходит бредущий, возносится к куполу, стекает по куполу в Чад и Бразилию (стекает по сфере остывшего глаза). Бледнеет, коробится... И видно — (кому — саксаулу, тарантулу?) — как долго струна горизонта, вошедшего в грудь, выходит клинком из спины... Змея прошуршит обессилевшей молнией и напьется из рифленого следа. *** Что пижма?! Если мертвая петля шмеля ромашке захлестнула горло. И остановился ветер, чуть не дотянув до без пяти четыре... Все правильно, поскольку центр вселенной протыкают иголкой циркуля, а внешне — это карусель или балет. Со скрипом дискобол вращает каменное солнце. И сухожилия дымят бикфордовым шнуром. Алло, алло!.. Ну да, алло, естественно! Что б вы еще хотели от меня — ведь я не автомат ни газированной воды, ни фрезерный, ни музыкальный и даже ни Калашникова. Я сюда пришел, чтоб закрывать глаза цветам, тем, чей исколотый октябрь пришелся на сейчас — без четырех четыре, когда сверхзвуковой Сергей Авдеев по небу тянет бычий цепень, грозя военщине заморской. И официантка Клава глядит в зенит из-под руки на долгий белый след мужской, необычайно плодородный. Но лейтенант Авдей Сергеев на форсаже, а не на спуске... Нет, я же вам сказал — Ни-для-чего! И ни за деньги, ни бесплатно. Они мертвы, как без пяти четыре, как выдох шины, как этот след от самолета и как товар универсама. *** Ты так долго шел, что иссяк завод, лопнул балансир, расшатался анкер. Ты так долго шел на своем клочке, ты самим собой пробурил воронку. Ты так долго шел, что промерз до дна. Над тобой мениск разровнялся судорогой. И тебя не в лёт, а в упор достать. По тебе сверять можно только деньги. На твоем нуле ни дождя, ни пчёл. Синева секунд лишь растет недвижно. Ты так долго шел горлом на асфальт, что тебя всего разнесли подошвы. Ветер шевелит полое пальто, шарит по карманам, ищет рваный рубль. *** Это ключ. На нем желобок для стекания крови. Его надо в дверь воткнуть и потом повернуть по стрелке, стремящейся в завтра, которого нет, будто ты бежишь по эскалатору против хода мыслей и чувств, чей отработанный ветер пахнет гашеной известью. Это свет. Просто ты забыл, что его снесло, будто полынью. И ты бьешь лицом в толстый лед бельма. Задыхаясь. Каждый день, входя, ты забил собой дом, как муравейник. И ты в-ты-каешь ключ в свой замок насквозь, и он входит в печень. И еще чуть-чуть — повернуть два раза. *** С изолятора свисает оголенный провод — подходи и трогай. Из-под гардероба пахнут чьи-то слишком ноги. Чей-то драп по коридору раздается. Кто-то ноет, как комарик, и пока прозрачен. Бурелом, облава — это с трех до девяти, а сейчас — чья гирька выше прыгнет, тот и дома, остальные так себе — дырявые гамаши. Это студия грамзаписи «Макдональдс»? Это только лишь подпольный дом ответов. Не натягивай постромки в ноту «Ми», не летай над стариками и детьми, жди ответа, падла! Вытри ветром губы! Капает с гвоздя кирпичный сок. Тлеет в лампе мезозойский уголь. Ночь на убыль, ноги на восток. Кто-то вновь продулся в три сосны. В гарнизоне ставни открывают. Сторож колотушкой добивает капитанши эротические сны. *** Спой мне что-нибудь по милицейской рации — задушевное и немного с грустинкой, когда тебя привезут в первое отделение имени Социалистической кооперации. Треск эфира пузырьками шампанского закессонит по венам, разбегающимся от сердца Родины до самых склеротичностей одноколейками. В кимберлите за строку платят дешево, в зоопарке пайки намного сытнее... Надо же! — в однокомнатной, в стене умудриться выгрызть еще и вторую — детей растить и дожидаться ночи, когда восходит кусочек сыра. Исподлобья можно дотянуться лишь до самого необходимого — голод, сон, испуг, висячие, как у Семирамиды, груди. Проснувшийся ночью долго ходит вниз головой. ЦПКиО ТЫ МОЁ, ЦПКиО! Опять ты со своим «пойдем гульять в осенний сад»! Тебе, а ты уж даже не в окно — уже посредством насморка в меня вживилась. Трава давно устала эстетствовать перед тобой. Дебют наш затянулся еще в истекшем, а уж текущий пробил флажком по темени безверья, вернее — бездоктринья. А я не столь уж эндокринный, не столь и же’лезный. Два пальца в рот — не птицу на лету глушить, не оскорбить уборщицу. Я так здороваюсь, хоть и не стерлинг... Люблю смотреть лицом, когда глухонемые говорят под звездным небом, кронами, о теннисной зегзице, лаская щеки. Последний сад тобой латает дыры. Не пора ль зашнуровать ботинки обрывком вены. Какие уж коктейли! Какое там «гульять», ландрин тебя дери! *** Я опускаю в прорезь три рубля и два раза поворачиваю ручку. Входят, с покупками. В темноте возможно различить лишь профили. Еще трояк и на педаль. Закрывается, как лифт, лишь сигарета перископом. Шесть семьдесят и восемь раз на кнопку. За угловым направо несть числа. Но кто-то бритву вывел на длинном поводке. И снова ветер гонит мусор к морю. Пятёрку до получки, рычаги вперед. Шторкой фотоаппарата отсекает ухо. Но нет его и выше. Тогда — в бою под Диксилендом — он чудом выжил. Повезло. Двенадцать двадцать, тумблер вверх. Щелчок. Купейный говорун гуляет эхом, сам себе на спину наступает впопыхах. Совсем иное за конторкой — расти. Червонец, реостатом вправо, до белой риски. На баррикаде кончаются презервативы. Я опускаю в прорезь три рубля. *** …или в метро, где мраморные плиты располагают к мыслям о бренности всего живого. Но все-таки Донбасс — вот высшая награда: окаменеть! Не мозжечком, а лавой. И как еще вспомянут! В поту! Да не придут, а приползут! Уметь любить — не просто темный вечер. А то бывает, колбасы отрежешь, а на срезе конный барельеф Микояна. Так у меня обычно кошелек и уводят. *** Льву Кропивницкому Десантник, падая с неба, ломает хребет оленя и в цепких когтях уносит добычу в гнездо, где рвет еще теплое тело на буквы и слоги, бросая к подножью вершины, — там Пушкин в цилиндре и с тростью стоит, напрягая монокль. 1993 СОВСЕМ ЦВЕТОК Мухами глаз по зеркалу ползая вспотевшему, Выискивал, вынюхивал потовыделения на пористых донышках. Льнул, суча ресницами, вылизывал своими мухами двумя голодными. Потом, насытившись, они летали в прозрачности весенней с раскрытым настежь ртом. *** Пусть с неба льет холодная вода! Пусть грипп с ангиной затевают козни! Промокшие ботинки — не беда, Когда щекочут водоросли ноздри.
* * ОЖИДАНИЕ Стою на платформе. Жду электричку. Нет электрички. Не идет электричка железная. Подхожу к семафору. Худющий стоит, аж позеленел. Спрашиваю. Врет — не краснеет. Нет электрички. Не идет электричка зеленая. Ложусь ухом на рельс. Скрипку слышу, мышь где-то скребется, ветер в донских ковылях шелестит. Нет электрички. Не идет электричка бешенная, как январь. Начинаю выбирать рельсы, как невод. Одна только мелочь идет — скрепки канцелярские, бумага писчая, скоросшива... бронепоезд вытянул! Нет электрички. Не идет электричка двуглавая. Паровозом реву песню брачную, приманиваю. Нет электрички. Не идет электричка фригидная. Есть билет у меня, есть сезонка и даже на штраф пятерик! Я не буду курить в твоих тамбурах! Я не буду стоп-краном таскать кирпичи на девятый этаж! Я не буду высовываться!.. Подползла. Зашипела. Сглотнула. *** Высыпали из угла, на стол вскарабкались, на веревках втащили коней, старший крикнул: ВЕСТЕРН! Мельтешат. Ржание. Полировку подковы царапают. Нагадили в сахарницу. Труд на ранчо полезен для нервов и мускулов. А на закате — в салун. Где карты, рулетка, сигары. Троим подфартило с певичкой. Виски развязывает языки и наливает кровью глаза. И там где русский бьет обычно по роже — мол, твоя кобыла обмочила мои блю-джинсы — Джон выхватывает Смит энд Вессен. Отбегаю подальше, у всех в руках вместо дринка уже расторопные кольты. Пули свищут, сизо от дыма, мат-перемат на языке Шекспира. Даже в стельку стреляют отменно. Все пули ложатся в цель, не царапая стен. Через минуту скончался последний. Сметаю в совок и выбрасываю в мусоропровод. ***
будто здесь ученье. Бабочка была большой, как балерина на сцене Большого с балкона четвертого яруса. Я вслух сказал, хоть никого и не было: Зачем же головой? В стекло. С размаха. Ведь и так мозгов совсем немного. Вся биология пошла на постройку крыльев, на чтоб в грязи не ползать исключительно усильем крыльев, а не интеллектом. Зачем же, бабочка, зачем тебе учеба, которая для бабочек есть тьма?! Я так сказал. И выключил свет. Будто милосердным был. Ну и хрен с тобой, сказала бабочка. И полетела в найт-клаб – стучать мозгами о ядовитый цвет неона. Ну, или пиона, или что там еще у них в сезоне этом модно. Их, бабочек, не разобрать. БАЛЛАДА О ЖЕНСКОМ СЧАСТЬЕ Внутренняя Россия. Идут большие маневры военной армии. У сверхзвуковой машины полыхает двигатель, трагедия неизбежна. Пилот Красной Армии Георгий Асатиани рвет рычаг катапульты и самолет покидает на скорости две пятьсот. Приземлившись, он видит деревню. И устремляет свой шаг к покосившимся избам, средь которых должна быть почта, чтоб позвонить командиру и сообщить о ЧП. Простая женщина Зина, растящая двух сыновей без мужа, с дойки вечерней идет и слышит за лесом ужасный взрыв. У нее отлегло от сердца, когда летчик, живой и здоровый, пред ней с парашютом возник. Пилот Красной Армии Георгий Асатиани видит простую женщину, парным молоком и разнотравьем цветущим дышащую, и прямо в глаза ей глядит. Простая женщина Зина глаз не отводит и тоже в глаза пилота глядит. И каждый из них тут же понял, что это любовь большая, внезапная, словно молния, и прочная, как гранит. Пилот Красной Армии Георгий Асатиани не стал звонить командиру — он снял строгий шлем свой летчицкий и остался у Зины жить. Так счастье, падая с неба, врастает корнями в землю. И мы смотрим на это с восторгом и говорим – Вери вел! *** Пока один человек из земли ногой вкусные соки вытягивал, другой человек качал головой гнездо с птенцами хреновой породы. Потом один человек лежал сытый и полный наваги, а другой человек душил кашлем третьего человека, который с утра носил на груди татуировку «Роза», а после обеда — татуировку «Рая». Затем один человек ловил на ушную мелкую косточку «Эхо Москвы». Другой человек стоял заслоном зиме, морозу и третьему человеку, который — во рту сигара, в зубах до хрена кальция — уритом страдал во мгле. В конце концов один человек умер, другой человек родился, а третий вышел и снова сел. *** И забылся в зеркале беспечным сном, а сам ушел в аптеку. Воспользовались: вшмыгнули, нос переставили, на лысине написали «ZERO», створки ушные сложили и внутрь зеркальцем впрыснули зайчика, чтобы уши усами свисали, рот поставили вертикально-порнографически. А глаза не тронули — пусть видят когда вернулся вперился очная ставка правды жизни и правды искусства левый глаз — правый глаз правый глаз — левый глаз: это вам не кривошипно-шатунный механизм, а знак бесконечности, распростершийся до — где затылки срастаются, там и ищи, когда сердце в ритме «абонент занят»... капля падает и неизменно встает *** Мы говорим Camel — подразумеваем верблюда, с мордой ботинка, со спиной взволнованной Эллингтоном. Но воздушно-десантный верблюд держит в них парашюты. А у подводного — перископы. Часть первая Верблюд ночью пробирается в город и незаметно увозит бочку с квасом. Попутно: перестрелка, две герлы с новостройки, тройной обгон на Кузнецком и реанимация. Часть вторая Верблюда, вдрабадан, выкидывают из ресторана. Но он отнюдь не блевал, это такая слюна. Часть третья За верблюдом в ломбарде никудышный уход. В результате — моль и позор. И мужской стыд. Часть четвертая (филейная) Смотри, мясник Петров, попадешь и ты, сука, в Красную книгу! ОРНИТОЛОГИЧЕСКЙ ТЕТРАПТИХ Птих первый Где-то научилась каркать. Отрастила перья. Ноги тонкие. Глаз недобрый. Ну и отвори ей окно, Птица не должна без неба! Птих второй В ущелье такого бюста тепло и сыро. Но не место для сокола. Хоть и ранен, здоровой ногой пинает громады. Что ему до удушливой этой ласки, вкусившему свободы птичьего рынка! Птих третий Если птице отрезать хвост — птица дотянет до аэродрома! Если птице отрезать ноги — птица сядет на брюхо! Если птице отрезать крылья… Не знаю. Не пробовал. Птих четвертый На заводе, на «Калибре» разводили птиц колибри. Я тебе, завод «Калибр», посвящаю сей верлибр! *** Ну и — лампочка! Ну и — перегорела! Ну и — насовсем! Молока-то ведь все равно не давала! *** Если бы я был тараканом, нашел бы себе тараканиху по вкусу, свил бы с ней гнездышко поуютней и нарожал бы деток — помельче, но числом побольше. ТОКО ТРОНЬ, ГАДИНА ДВУНОГАЯ!!! *** После стрельбы обнаружилось, что на каждую израсходованную пулю приходится по 26,3 убитых. «Пять хлебов!» — завопил генерал, — «Пять хлебов!» С тех пор его и прозвали «кормильцем». *** Стреляли, стреляли... А потом хоронили. Хоронили, хоронили, а кого нельзя — тех лечили. *** О да! Рассвет напомнит чьих дел мастер, чья речь Лота вылущена в птичий щебет. С добычей попутного ветра — такой вот ост-его-хандроз. *** Лежит грецкий орех и шевелит извилинами — как бы продаться рубликов этак за двести. А на олимпийские традиции ему глубоко наплевать. ВИФЛЕЕМ Просыпаюсь в холодном поту: 1949-й, только что родился. Ходит усатый баюн, крапленым глазом вынюхивает, младенцам животики вспарывает. Судорожно прячу отчество Яковлевич, хоть и русский, но так надежней... Бедные, бедные Иосифовичи, не попить нам вместе водки по 2.87! *** Искали врача. Нашли акушерку. Приняла почку. А как пьют в вашей стране, сэр? *** вырыл землянку стал жить в мезозое хорошо — все вымерли *** из последних сил держать себя в рамках гуманизма по отношению к самому себе
* * * *** раздавленная колесом и высохшая лягушка вдруг напомнит о летчике в ресторане о его безбрежном румянце которому еще долго уходить за горизонт *** шкура змеи и выползшая из нее змея равны друг другу как револьвер для русской рулетки *** цветущая яблоня может быть и уронит лепестки но это будет уже не цветущая яблоня а брюхатая *** комар заблудился одинокий ночной комочек печали никак не найдет все исколото вот сюда утешься брат в тюбетейке *** луна словно камешек плоский пропрыгав по глади Азовского моря к небу прилипла цикады — яркие столбики торчащие из травы какое-то хвойное южное деревце мне на ветру рассказывает сказку про русскую степь про метель про волков и так напугалось само что никак не могу успокоить *** почему бы из такого большого тумана не выйти большому верблюду? вот ему сено вот вода вот колокольчик а если захочет — свисток сядем обнимемся будем свистеть и звенеть чтобы Макаров не сбился с пути приходи поскорей Саша Макаров-Кротков — шестнадцатое рубаи, а силы уже на исходе! *** едущий в метро белогорячечник истерично ищет на груди кольцо раскрытия парашюта незадолго до «Кропоткинской» со свистом проламывает пол *** так в провод входит ток но в прицел вдеть мушку — дело женское тонкое нежное *** ноги-то возможно и омоют но не в туда положат и не так понесут *** подводная лодка длиннее метро но короче могилы *** этот человек падает словно осенний дождь долго и нудно тот под веселый гром загоняя прохожих в подъезды лужи высохнут или замерзнут вновь пройдет нога человека КОММЕНТАРИЙ К ИСТОРИИ слепые не видят молнию глухие не слышат грома прямое попадание ощущают все *** бросил в пруд камень круги не пошли пора к психиатру 1996 *** бросил в пруд камень и написал стихотворение про то как бросил в пруд камень и написал стихотворение про то как бросил в пруд камень и написал стихотворение про то как бросил в пруд камень и написал стихотворение про то как бросил в пруд камень и написал стихотворение про то как бросил в пруд камень и написал стихотворение про то как бросил в пруд камень и написал стихотворение про то что бросил в пруд камень и написал стихотворение про то как бросил в пруд камень и написал стихотворение про то как бросил в пруд камень и круги пошли по воде! 2006 *** огня изнанка великопоповицкий козёл ведьмы месячные передонов-блюз ну в общем что-то в этом роде и в том и в том и в том и в том *** зимний день в степи он явно из пробирки ни органики ни чувства ни хрена *** мурашки морошки и блики земляники ЮЛИАНСКИЙ ЦИКЛ *** пришел услышал: аллилуйю поют под скрежет зубовный *** пришел попробовал: квас конечно хорош но опять отдает портянкой *** пришел почуял: все в жопе давно но в надежде на свет в конце туннеля *** пришел услышал: осенний свист пугала на пустом огороде *** пришел увидел: заря горит развернулся — закат кровенеет
Песнопение о холме На высоком холме в лучах заходящего солнца кровля дома горит и сияет нестерпимым огнем, отраженным печалью ушедшего лета, когда листья шептали о вкрадчивом ветре, что звал за собою и ласково трогал. Дом на высоком холме, где не жить никогда одиноко и счастливо, словно стая волков, которых тут много с тех пор, как тебе стало сорок, и рухнувший мост унесло половодьем. И теперь уже дом на высоком холме, как прозрачный кристалл, что прельщает своей глубиной недоступной — как счастья ловушка для незрелых умов — на высоком холме в лучах заходящего солнца, так же быстро, как капля скользит по стеклу. Песнопение об овраге Словно кто-то, падая, огромный, всадил тут в землю нож тупой, не менее огромный. И провел овраг, куда впоследствии корова из деревни заречной сверзнулась. И всю ночь стонала обреченно. Потом ее неделю кто-то ел. Или всей стаей. Может быть, всем лесом даже, всем своим биоценозом прожорливым. А деревенским дела не было до этого, поскольку в ту неделю был у них запой в связи с погодой и каким-то там партийным постановлением о чем-то накипевшем на душе. Овраг, овраг, и ты дурной такой же. Но как же скучно было б без тебя. Песнопение о ручье Затаившись, за десять шагов различить не сумеешь эту тихую речь, что иссякнет, едва на лугах зазвенит от жары медоносной. А пока что — ручей, а не память ручья, что под кожу ушла склеротической жилкой. А пока что — ручей в ложе трав и листвы, как ничейный, бесполезный подросток, что не доживет до июня. Как прервавшийся звук в твоей сотовой трубке, потому что забрел, где лишь лес, просыпаясь, пытается вспомнить себя. Этот мутный поток, как тайный отход пелены и покрова, или лучше — как сука, что лижет прилежно тебя языком, отчищая румяна, и пудру и черт его знает еще. Песнопение о поле Который год здесь что-то колосится — ячмень, овес, пшеница или рожь. Узнать в таком безлюдье невозможно. И незачем к тому же, ибо тут отсутствует структура, а объем давно уж спилен, вырублен и дымом растаял в ненасытных небесах. И даже эти шорохи, шуршанье давно уже фантом, кнутом и змейкой тобой играют в полной тишине. А если вдуматься — уж если так приспичит, — то это поле — плоский ломоть хлеба, ножом отрезанный от каравая круглого, и маслом намазанный, тем же ножом. И ты идешь и выволакиваешь ноги, укладываясь на ночь двадцать тысяч раз или чуть больше. В этом смысле — да, простор, конечно, но такой постылый, как свобода без соблазнов. Или как — вон, слышишь — жаворонок вьется над тобой и ни хрена ему не надо от тебя — ни мяса твоего, ни кошелька. Песнопение о реке Когда река является во сне, то плеск ее и долгое теченье наполнит всё — от мозжечка до пяток, которые вдруг вспомнят о песке прибрежном. Этот ход воды, не знающей иного направленья, дремотою является во сне. Однако там, на лучшем берегу, уже костры сигнальные пылают, и что-то под гармошку распевают похабное, барахтаясь в стогу, и брагу пенную и сладких дев алкают. Однако и на этой стороне немало есть былинных развлечений. Поэтому никшни и ни гу-гу. Песнопение о поляне Выступает внезапно из промозглого мрака ноябрьского леса, из промокшей насквозь древесины, из орешника хилого, хвойных запахов для туберкулезников. Здесь поляна. Здесь когда-то в такую же точно погоду человека убили. И это теперь навсегда, когда сядешь на пень покурить, чтобы дым сигаретный не путался в голых ветвях. Здесь поляна, которая, может быть, и ласкала бы глаз или что там внутри, если б лето, и дурь в голове под завязку, или, там, например, выходной из себя. А сейчас здесь не прибрано, словно после попойки. И молчит телефон, будто на зиму, сука, залег. Песнопение об озере Рассказывая самому себе сказку о спящем озере, подходишь к тихим водам, по которым ни палка не поплывет, ни лодка, если не приложить усердия, — словно кувшинки с лилиями в наркотической одури, обездвиженные отсутствием хотя бы одной прямой линии. Всё случайно, всё льнет друг к другу, перемешиваясь. И глазам отрада и отдых, словно вчера родился. И глазам — не надо смотреть в точку, а можно просто зрачками плавать, чуть покачиваясь от вблизи проплывающей рыбы. Лишь только глубоко на дне гуляют бесики одне. Песнопение о лесе Лес шумит вершинами, щебечет птицами, зайцами гоняется, и сучьями трещит, и ропщет листьями. Лес то водит человека, как кутенка слепого, чтоб носом ткнуть в болото, то расступится и такое покажет одному тебе, что заторчишь, как клен опавший и заледенелый, и ну березку обнимать чужую и сок ее алкать под кукование цыганское. В леса, в леса! — лишь только стает снег, и муравьи расконопатят лазы, беги, мой друг, от городской заразы, где человека проклял человек. Песнопение о саде Сад заброшен, хозяева сгинули где-то, забора уж нет и в помине. Однако всё что-то ищет корнями, находит и яблоки к сроку рожает, которые падают осенью гулко. И так год за годом. Лишь весной погуляет весь в белом недолго и снова впрягается в лямку, которую никто не обрежет ножом, за голенище засунутым, не отпустит на волю, пошляться без дела. Так и стоит, пока ноги держат, пока ветви машут, пока листья дышат, шелестит, в уме шагает вслед за ветром, который расскажет, точнее, наврет с три короба: фосгеном — о скошенном луге, помойкой — о рыбном промысле, парфюмерной телкой — о бассейне реки Амазонки, где попугаи и какие-то особо звонкие насекомые — хоботок засунут, пощекочут, и родишь сразу сто ведер отборных яблок для хозяев, которые сгинули где-то. Песнопение о небе Оно есть — лишь когда лечь на спину. Пусть и с закрытыми глазами. Всё равно почувствуешь, что не только бездной плывет над тобою, никогда не кончаясь, но и смотрит пристально на тебя, на маленького, хоть уже и почти состарился. И страдал, но страданьем маленького, несмышленого. И радовался точно так же, и тянулся вверх, думая, что растешь, приближаешься, оставаясь по-прежнему маленьким, желтым птенчиком в ладонях, чей пух шевелится дыханием неба, потому что оно — всюду и для каждой твари, как мыслящей, так и не очень — всё со всем собой соединяя. Небо — пространство для прямого взгляда, который неизбежно утыкается носом в свою пуповину и вылизывает себя языком теплым и влажным, робея отца милосердного своего — неба. |