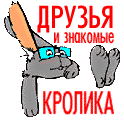
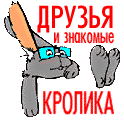 |
|
Поймать себя не просто на слове, но на слове, которое в процессе речи – самая что ни на есть некрасовская задача, основать свой метод в самой речевой природе поэзии. К сходным вещам подошёл чуть раньше Некрасова его старший товарищ по искусству, приезжавший в Лианозово с 61 г. Я.А. Сатуновский. У него внутренняя речь напрямую формирует стих, она и диктует, и выверяет все внешние стиховые особенности-признаки. Но ни у кого сам процесс становления стиха не демонстрировался так, как у Всеволода Некрасова, становясь собственно стихом. Мало – демонстрировался, - работал, убеждал. Сам процесс-балансирование «между…проектом…текста и реальным текстом… состоянием процесса и фиксируемого результата», как он сам написал в комментарии к тексту «Правила исключения».
Думаю, этот текст занимает совершенно исключительное место во всём, что написано Некрасовым. Как никакой другой, он выражает творческий метод автора. Да он и мыслился «чем-то эмблематичным, центральным, базовым» для всего им написанного.
А в комментариях к нему, кстати, тоже есть что прокомментировать. Там упоминается «бумажная каша-лапша». Это ни что иное, как полоски бумаги, на которых писались слова, много слов, в основном, в повторах, как это видно в «уцелевшей от воровства» (когда в 98-ом на даче украли компьютер с текстом 25-летней работы) части поэмы «Правила исключения» на мягкий знак.
Но ещё в 95 г. в Малаховке, когда мы говорили об отношениях между замыслом и его воплощением (я связывал это с одной своей вещью, «Это сочинение»: «…это сочинение находится в процессе сочинения…»). Некрасов читал кусочки «Правил», и рассказал мне, что на первых этапах, в 60-х, он пользовался такой вот «вариативной матрицей»… Это было что-то вроде кляссера для марок, такая кассета–картонная площадка с зажимами по обоим вертикальным краям, куда можно было вставлять и переставлять в разных сочетаниях слова, написанные на бумажных полосках. Для того «лапша» и нарезалась.
По-моему, это замечательный факт. Значит уже с самого начала Некрасов относился к слову как к пространственному объекту, работал с его визуальностью. Неслучайны в связи с этим и повторы. «…Повтор… выводит в визуальность» («Объяснительная записка», литературный «А-Я», 85). А визуальная демонстрация слова как объекта подразумевает материально-осязаемый процесс: нарезка полос, запись слов на них, вставка нужных фрагментов в картонную кассету, сопоставления, перестановки нарезанных полос в ней – целая технология. Думаю, Всеволода Николаевича она вытеснила не только «к Эрику и Олегу», но и в свою манеру, собственный большой стиль, когда, обходясь уже без нарезанных полос и кассеты-матрицы, его стих унаследовал все признаки этой технологии: потянул в себя и запечатлел сам процесс своего возникновения из речи. Стих-процесс – вот что интересно.
закат
закат закат
кто так сказал
закат
закат закат
кто-то сказал
закат
закат закат
как скажут
закат
закат закат
закат
а я так и знал
Всего шаг назад, к самому себе, во внутреннюю речь. Но так ведь и пишутся стихи: через повторения, перебирания слов, созвучий, вариантов интонирования, разговор с кем-то в самом себе.
У меня есть вариант «Правил исключения», после которого эта вещь приняла окончательный вид. Если 2 эти текста сравнить друг с другом, будет видно, что и самим текстом автор пользовался как визуальным объектом: оперировал сразу большими кусками, выстраивая не только грамматическое целое, но и визуальную структуру на странице. Структура эта держится не только повтором соседних слов, но некоторые слова, как темы, пронизывают текст на большом его протяжении, задавая ему, каждое – свой ритм:
нибудь попить сире ре рень.
нибудь, попить,
Одно из предполагаемых названий, собственно, и было «Сире ре рень». Структура эта не жёсткая, беспрекословная и непререкаемая раз и навсегда. Но она открытая, как бы на правах заготовки в рабочем порядке, «в работе», в процессе.
Нельзя не сделать здесь небольшой оговорки о структурах в творчестве Некрасова, и особенно в этой вещи. Мне кажется, что термин «минимализм» в том значении, в котором он вошёл в лексикон искусствоведения и критики начиная с конца 60-х г.г., было бы неверно приноравливать к поэзии Некрасова (последнее время это не раз происходило). В разговорах о ней он ни разу на моей памяти не ссылался ни на Карла Андрэ, ни на Сола Левита, хотя, конечно, отлично их знал. К их времени у него уже был десяток лет собственной работы за плечами. А вот Поллока поминал неоднократно, начиная с американской выставки в Сокольниках где-то около 60-го года, где он впервые его увидел, и увидел в нём прежде всего движение, траектории тянущихся по холсту цветных полос, льющихся из дырявых банок с краской вслед за переходящим с места на место художником – как раз тот самый процесс-генезис, втянутый в произведение через перемещение в пространстве. Говоря о своих параллелях с западным искусством, вспоминал всегда и немецких конкретистов: Гомрингера, Мона, Рёма, Янделя… Но всегда оговаривался: о параллелях этих можно говорить только «на схожих основаниях». Разниц было не меньше чем сходств, поэтому и терминология западного искусствоведения, со всей своей оптикой перенесённая на почву нашего искусства, может сместить смысловые акценты, спутать картину того, что здесь действительно происходило. Это тонкий момент, требующий осторожности.
В «Правилах исключения» голос автора узнаётся нами как бы «в обратной перспективе», по уже известным нам стихам и словесным повторам. Интересно, что бы мог сказать об авторе этой вещи читатель, совсем не знающий остального его творчества? Материал настолько прост, обиходен (что может быть обычнее словаря, хотя бы и «попробованного на зуб» удвоениями!), что автор становится как бы прозрачным, почти невидимкой, предельно приближая (хочется сказать: «отдавая») свою работу к читателю. Да из этих «СЛОВ», пока их не украли, собственно, и вышло множество некрасовских стихов. Да и не только его. Он, например, указывал мне на связь между:
власть
власть
взялась
взялась
(см. «Правила исключений»)
и стихотворением И. Ахметьева:
неужели наша власть
наконец за ум взялась?
Таково свойство этого текста – провоцировать продолжение, давать побеги.
Вариативность и прозрачность – свойства ещё одного произведения, недавно изданного в русском переводе: «Exercices de style» Раймона Кёно (Т. Бонч-Осмоловская, С. Федин, С. Орлов «Занимательная риторика Раймона Кёно», М., «Книжный дом «Либком»», 2009). Эти 2 вещи хочется сравнить как образцовые в своём роде. «Упражнения» - это 99 литературных форм (каждая со своими стилистическими и жанровыми оттенками) одной и той же, казалось бы, слишком обыденной ситуации. В 42 г. их автор оказался свидетелем сцены в автобусе, каких мильон бывает каждый день и где угодно. Парень с длинной шеей в шляпе ругался в толкотне с пассажирами, потом он занял освободившееся место и вышел. На обратном пути Кёно видел его у вокзала Сен-Лазар, где приятель указывал ему на оторванную пуговицу. Всё. Ситуация ничем особенным не примечательна. Этим-то и интересна. Потому что где он, автор? Автор неприметен, он где-то среди нас, смотрит на им же описанную сцену глазами читателя, и вот уже сценка оборачивается документом, фактом, тем, что близко каждому. Неслучайно поэтому во второй части книги предлагается ещё 129 «упражнений» на ту же тему, выполненных тремя авторами: Бонч-Осмоловской, Фединым и Орловым. Свой вариант-листовертень написал в 03 г. Д. Авалиани, существуют «упражнения в стиле», как новые ракурсы всё той же истории, ещё одного французского автора, Стефана Тюффери (Stйphane Tuffйry. Le style, mode d'emploi. CyLibris, 2002). Ситуация явно тяготеет к коллективному творчеству.
А что было вначале – ситуация или слово (яйцо или курица)?
В «Упражнениях» ситуация порождает слова. В «Правилах» - скорей, наоборот: за словами проступает ситуация автора. И это не только свидетельствование, оборванность, обворованность… Это ещё и насущность. Как в случае с чешским художником и поэтом Карелом Фляйшманом (его рассказ «Полочка»). Когда его пришли арестовывать для отправки в Терезин, он мог взять с собой только 1 книгу. У них дома была хорошая большая библиотека, но он взял с собой даже не Библию, но словарь языка, потому что из всего, что написано, ничего более насущного, соединяющего нас с человечеством, для него просто не оказалось.
Тогда в 95-ом в Малаховке мы говорили о произвольности в «Правилах». Как сделать, чтобы эта произвольность была бы и не случайностью, и в то же время не становилась системой, как такую вещь можно закончить.
С уходом из этой жизни Всеволода Николаевича время само подвело итог (что он, конечно, и предугадывал, когда в 2001 году писал предисловие к этой вещи): ничего более насущного и в то же время открытого в будущее нашей поэзии мне на сегодняшний день неизвестно. То же можно сказать и о всей его поэзии.