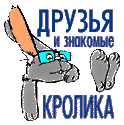
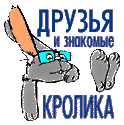 |
|
|
МОНОЛОГ АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ ПРИСЛУГИ (аморальная лирика) Вступая в спор, впадая в ступор, входя в избу-непонимальню, впадая в раж, вступая страстно в артиллерийскую дуэль, мешая растворимый цукор, я доложу: "Закат нормальный!", дослав осколочно-фугасный и посылая пальцем в цель наводчика, и все три буквы координат обозначая открытым текстом, кодировкой не утруждая унтеров, мешая растаможить шухер в стальном стакане иван-чая, в латунной гильзе трехдюймовки, в чугунных блюдцах буферов. Конгениально, словно Фишер, реве тай стогне Днипр широкий, и сладок цукор растворимый, словно отечественный дым. Желая растворожить Шифер, я довожу: откат нормальный, и черный нал как одинокий белеет в пару с голубым. Я довожу себя до ручки, я завожу себя, как этот, я посылаю на три пукли хитин комплекта ПХЗ и эти баковские штучки, и эти банковские сметы, и эти баксовые куклы, и это бабское безэ. Дюймовочка, сорокопятка, Твои замковые объятья, твой обольстительный казенник и дульный тормоз, и лафет – я в них влюблен по рукоятку, я шлю соперникам проклятья, ища в стволе твоем бездонном когда не гибель, то ответ. Дерьмовочка, сороконожка, твои законные объятья и твой казенный обольстильник, и полный тормоз в голове, и прочее – еще немножко, и засажусь по рукоять я, ища в дупле твоем будильник своих желаний о love'е. Тюрьмовочка, сорокопутка, восьмидесятница-писючка, твой буфер полон до отказа, а память – 8 Kb, подсесть к тебе на винт так жутко, твой драйв хрипит; а эту штучку, где надпись ENTER, ты, зараза, мне не даешь поцеловать. Наводчица, фармомазонка, кукушка-сороковоровка, поди ты накукуй три века, а я короткий человек. Курсант Сквырчкоу стрельбу закончил и свой досыльник так неловко сует в коробку от “Казбека”, и нажимает кнопку BACK. Ведь я простой тридцатьчетверка, твой взор короткий бронебойный мне моментально сносит башню в упор с дистанции любой. Своим шершавым, словно терка, я слово позабыл достойней, чем я хотел сказать. Мне страшно. Я вас любил. Труба. Отбой. 17.09.01, Больяско СООБЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТЫХ РАЗРАБОТКАХ КРАСНОГО ЖЕЛЕЗНЯКА В степи под Хевроном – ковыль да будыльник, репей, лебеда да бурьян. Воспетый Назоном, там в скотомогильник зарыт скотовод-партизан. Он шел от идеи, но вышел к дилемме, в ловушку попал интеллект: направо табу, апория налево, и заповедей некомплект. Ребята! – сказал своему Суперэго и Эго, и верному Ид воспетый Кобзоном и прочей ортегой матрос-скотовод Маймонид, – жидове! – сказал он сурово и строго (и вышло по слову его) – у власти орлиной орлят еще много, но нас-то всего ничего. У нас залышилась останняя справа: загинув, героями стать, словив свою пулю, посмертную славу и память, ити иху мать. Три дня мы не спали, не пили, не ели, но нас тут почти полувзвод, а девушка наша проходит в Шанели, горящей Перловкой идет. Послушайте, братья, орла-муджахида: за нами Москва и Эйлат, агрессия наша и наше либидо, и десять дремучих гранат. Ништяк, говорю вам, батяни-комбаты, и я не гоню порожняк: у нас железняк – три совковых лопаты, голяк наше дело, верняк. пойдем мы направо, иль выйдем налево, иль прямо рванем на слабо́, но мы обретем здесь, в степи под Негевом, мазар, субурган и обо. Я грозен, как челюсть осла, с передоза. А если помру сей минут – скажите вдове, чтоб не тратила слезы и вражий не порккала удд. Затем, миновавши анальную фазу и выпав в оральный астрал, он вышел из ломки, хотя и не сразу, и грозно врагам заорал: – Под солнцем горячим, под ночью слепою мы чашу испили до дна, и если я щас не помру с перепою, то всем вам, подлюки, хана! Махался он ломом, штыком и гранатой, как грозный матрос-паладин. Совковой лопатой пробились ребята, остался он с ломом один. …………… Высокие песни поет Суперэго, и Эго кимвалом звенит, и грустной элегией славит коллегу его незалежное Ид. К нему на могильник придут Рабинович И Рабин, и Рабиндранат, возложат венки "Маймониду – за knowledge" и десять учебных гранат. 17.09.01, Больяско
…Ну, как все было? Папу-короля братан пришил. Большой артист. Названов. Ну, взял пузырь, подкрался незаметно и на ушко накапал на него, что, дескать, старый белены объелся. Тот так и обмер. Умереть – не встать! А после, ночью, тенью объявился (я за базар отвечу, видел сам) и сыну говорит: мол, с братаном ты разберись, мой Гамлет, по понятьям за этот беспредел. Но мать не трожь, хотя она, конечно, и паскуда: из койки в койку скачет, не остыв. – и с этими словами нахрен сгинул. Ну, Гамлет поприкинул, что к чему и для начала закосил под психа: мамане нагрубил, проткнул, как крысу, Полония – ну, был такой один, так, стукачок, Офелиин папаша. Потом еще Офелии сказал, не извинившись даже за мокруху, чтоб в церкви помолилась за него и дал котлету баксов, чтобы в кружку церковную поклала. С этих бабок Офелия и двинулась в уме, причем в натуре. Деньги пропила и на людях, в исподнем, песни пела, по пьяни и утопла, говорят. А Гамлет дядю, взявши на слабо, решил проверить на испуг и вшивость и заказал… Не дядю, нет!.. Артистам старинный водевиль про отравленье. Сам сел в сторонке, давит косяка на дядю: что Названов будет делать. Ну, как дошло до сцены с беленой, тот как подскочит – и давай бог ноги. – Огня! – кричит, – Огня! Пришли с огнем. Наш дядя самых честных правил задом сидит забившись в угол. Тень Овца над ним зависла черным абажуром, на блейте флея: – Умереть! Уснуть! Упасть – отжаться! Руки на капот старухе, Герман! Ваша карта бита! Шаг влево-вправо – сразу замочу! Потом пошла такая заваруха, такая поножовщина… Сынок – ну, Кеша Смоктуновский, он же Гамлет, – офельина пришивши братана, на нож поставил дядю, а мамаша, хлебнувши яду, отдала концы. Но Кеша тоже долго не зажился: его Лаэрт покойный перед смертью успел малехо тоже подколоть – ну, так, слегка, но ножик был немытый: Лаэрт им к пиву рыбку нарезал и тоже ногти чистил. Тот и помер, а перед смертью бредил и в бреду хрипел, что толковища эти, стрелки, начавшись по понятиям, потом в конечном счете всем выходят боком. Хотел как лучше – вышло как всегда, довольно жидко, и не шло обратно ему к лицу… И с этими словами отдал концы… …Да, и покуда мы наехали вязать – один Гораций живой там был – ну, мелкий Кешин кореш. Со слов его на месте мной и был составлен этот протокол допроса. От подписи свидетель отказался. На месте происшествия нашли шесть трупов, яд, ножи и лужи крови. А документов ни у одного не оказалось. Так что все кликухи записаны с горациевых слов, а многие по делу эпизоды и фигуранты отдают туфтой, как будто шиты из другого дела, и требуют еще оперативной проверки. Но означенный Гораций божится и в натуре зуб дает в правдивости им данных показаний и говорит, что в мире есть такое, что и не снилось нашим операм. Я думаю, он гонит. Подпись: Старший оперуполномоченный Шекснин. 18.09.01, Больяско ВВЕДЕНИЕ В ФИВАНСКИЙ ЦИКЛ Младенец спит, и, спитый, бледный сон, чай, видит он, но сон его не видит, что по уму он выжитый лимон, но из ума он изумленно выйдет и вспомнит все: и шар холодных числ, и холод подколодных геометрий, и объективный клекот птицы Чииз, и черный ужас моровых поветрий, когда усатый злой дагерротип, укрытый с головою черной тканью, вниз головой держа сквозь объектив, младенца обучает заиканью, и птица Чииж кружит под потолком со стиснутой в деснице черной грушей, и белый магний, словно снежный ком, из черных магий катит прямо в душу слепящей тьмой, и этот антисвет как черной тканью накрывает разум… И вот уже ужасный педсовет, соча свой яд, весь заседает разом на душу неокрепшую, и в мозг свой долгий клюв безумный педагоголь с редчайшим хохолком седых волос просовывает, серый гоголь-моголь перетирая с шелестом, сырым, как коклюшный и дифтеритный кашель. Крупицы знаний горькие чиры царапают на черепичной чаше. В ней булькает питательный бульон, растут культуры и бациллы мщенья. Дитя доскою черной обуян, и меловой период обученья откладывает слоем аммонит, рождая в нем моллюска и двудума. Но вот по нем уж колокол звонит, и он домой торопится угрюмо не торопясь и трогаясь в уме свой неокрепший уд и твердый неуд за древнюю латунь, что не сумел прогрызть насквозь. И, как сквозь черный невод, предвидит сон: отец, своим “ужом” шипя, своим ремнем свистя, гадюкой виясь, к нему ползет, вооружен хотеньем силой справиться с наукой и знание с обратного конца младенцу вбить, добыв себе победу авторитетом кожаным отца, который в детстве получил от деда; и этот сыромятный свист и вий на миг младенцу открывает веки на странности родительской любви, но через жопу. Но уже навеки. Он растирает слезы кулаком, морщиня мозг над жуткою загадкой количества, чьих качеств жуткий ком упрятан за решетчатой тетрадкой. Но снова тьма как аспидной доской, как черной тряпкой магниевой вспышки прихлопывает мир, дитя сквозь строй жидчайших снов гоня без передышки. Он входит сразу через семь ворот в свой тусклый бред, как будто в душный ворот, в беззвучном вопле разевая рот, и видит так, как может видеть крот – на ощупь видит Черный-Черный Город. Младенец спит в своем родном гробу младенческом, в изгнившей колыбели, и спят морщины у него на лбу. Его зовут Эдип. Он Сфинкс. Он спит. Он ждет. И с жирным поцелуем мать идет к его судьбой прописанной постели. 15.02.2001, М.,19.09.01, Больяско СЕДОЙ КУМ Говорит Василий Соловьев-Седой Василию Лебедеву-Кумачу: – Ораторию заказал мне Джугашвили-палач, посвященную Ленину-палачу. И придется писать, хоть, признаться, я совсем не хочу. Говорит Василию Соловьеву-Седому Василий Лебедев-Кумач: – Ораторию заказал мне, посвященную Ленину-палачу, Джугашвили-палач. Я писать не хочу, но придется писать, хоть плачь. Написали они вдвоем ораторию про Джугашвили, посвященную Ильичу. Что они при этом испытывали, пожалуй что, умолчу, да и о чем они думали, думать я не хочу. Только в наших душах до сих пор развивается-вьется этот седой кумач. И по ком этот плач? По себе самому этот плач. Только слезы эти уже никого не спасут… ………………………….. Дирижировал хором и оркестром народный Самуил Самосуд. 20.09.01, Больяско * * * Вот он, новый, долгожданный шпороносный цыцероне. Возродит он наш курятник, Цыцефабрику поднимет, как народное хозяйство, как народное добро. Вознесет он нас на гребень – красный, жилистый, мясистый – и немедля всем по яйцам даст нам твердое заданье, всех потопчет и пришпорит и поднимет всех удой. О, как дружно понесемся мы к сияющим вершинам! Мы снесем с пути прямого все, что нам нестись мешает, и все трудности снесем. А потом снесем все яйца в федеральное лукошко, станем счастливы и сыты. Скоро, скоро все узнают, что за цыца этот гоголь, что за цыцы эти мы! И кому какое дело, ястреб он или не ястреб, голубь он или не голубь. Яйца там, или не яйца – важно, чтобы кукарекал, главно дело – чтоб петух!.. Он кричит, и цыпы слышат серость в криклом вопле цацы, сердцем чуя сырость в яйцах, блох броженье в курьих перьях, дрожь и блажь святую чуя в курьих дурьих головах. 27.09.01, Больяско. РАННЯЯ ГОТИКА По квадратному морю, кренясь, проплывает Потемкин, симво́л, броненосец, боевая деревня светлейшего князя, ублюдок, потомок петровского флота, и в броне утконоса ехидно крюйткамеры роет в потемках червяк-древоточец, и сомнение гложет корабль-иероглиф, дредноут, и едкими каплями пота ядовитого точит обшивку, и каплями трупного яда и ржавчины рыжей. По изъеденной палубе бродит, качаясь, бунтуя, матрос, как паук-сенокосец, как созревший клонится колос на глиняных шатких своих ложноножках бесстыжих, псевдоподиях червеобразного призрака манифеста псевдобунта, народ-богоносец. Расползаются трупные черви играть в бескозырках, тельняшках, казеных бушлатах. Из готических башенок круто торчит измеряемый в дюймах стальной долгоносик, пустотелый и трубчатый, словно домик ручейника; пристально смотрит на берег одесской Галаты. Там по лестнице стремной, ныряя, как шлюпка, несется коляска под грохот колесик, самоходная тачка, тачанка, с набухшими, словно энцефалитные клещи, гроздьями гнева, экипаж с золотыми мясными червями, кочевая кибитка живого гниющего мяса. Мчится мертворожденный младенец, червивым перстом указующий вниз и налево, намечая рабочему классу и тож трудовому крестьянству грядущую трассу. С умиленьем глядит на младенца-вампира огромный костлявый упырь-краснофлотец, мух мясных от лица отгоняя, любуется им наливная от черного гноя крестьянка, улыбается скупо ему, с костяка обирая могильную гниль, пролетарий-золоторотец, обгоревшей рукой ему машет обугленный красноармеец из подбитого среднего танка. Скоро, скоро в известковую яму ляжет вместе с семьей отставной государь-самодержец, и раскрасят торосы кронштадтского льда пролетарскою кровью своей делегаты-балтийцы, и сойдутся зеленые, красные, белые, прочие, сын на отца, брат на брата, постреляют, порубят, повесят, порежут, побегут в эмиграцию – белые, красные, разные люди – попы, офицеры, евреи, бандиты, поэты, убийцы. Скоро, скоро гигантской медведкой из недр революции выползет страшный Сосо Джугашвили, и полезут из всех плинтусов и щелей тараканы, клопы, многоножки, термиты, жуки, пауки, мухоловки и гниды, и амебы с поденками, день прошуршав, будут рады тому, что их вновь позабыли убить, невзначай не убили, и пойдут по полям, по лесам, по горам, по долам, по этапам, вагонам с гармошкой и кепкой скулить инвалиды. Скоро, скоро страну ее стражи, любимцы народа, стальные чекисты накроют одним бесконечным брезентом и начнут исчезать вольнодумцев, чужих, разночинцев, родных, инородцев, своих, их детей и домашних. У Авроры, Варяга, Корейца, Очакова, Чесмы, Потемкина, крякнув, поедут от ужаса их орудийные башни. Станут матери плакать по их сыновьям, дочерям, комсомольцам, спецам, кулакам, командирам, студентам, по троцкистам, зиновьевцам, космополитам, врачам и врагам трудового народа, вредителям и недобиткам. По телам, черепам, трупам, судьбам, этапам большого пути пересылок и зон полетит боевая тачанка, колесница Джаггернаута с отменно отбитыми косами, жуткими гроздьями гнева, стальная кибитка, и двухсотмиллионное поле замрет под стахановской жатвою этой, багровой волчанкой-молчанкой. ………………….. Эйзенштейн отдыхает, отсняв эпизод на “ура”, режиссер-мифотворец: два-три съемочных дня – и певец революции новую ленту скончает. А вокруг суетится, реквизит собирая, беспорточный наемный урод-многоборец, и стальной громовержец Потемкин укоризненно главным фанерным калибром качает. Два-три дня – и начнется для всех слепоглухонемая черно-белая фильма, наш шедевр мировой с поразительным чудом – явлением мясогниющего красного флага, по Европе за Призраком вслед с небывалым триумфом прокатится, жатву людскую сбирая обильно. Начинается Мировая Коммуна. Эйзенштейн отдыхает. Пора загораться Рейхстагу. 05.10.01, Больяско. * * * Нужен взгляд насквозь, навылет, чтоб постигнуть суть вещей? Или вскользь, по боковине, по касательной – и в щель, трещину, в разлом предмета, прямо в рану новизны? Нужен взгляд другой, не этот, нужен взгляд со стороны. Очень трудно посторонним стать у жизни на краю. Мир лежит такой нестройный, прячет внутренность свою, прячет истинность и самость, суть таит и глубину. Все попрятал, вот ведь гадость!, кажет кажимость одну, кажет видимость и внешность, лежа в профиль и анфас. Как постичь его кромешность? Чем снабдить незрячий глаз? В микроскоп уставясь раком, словно некий пионер, отыскать бы новый ракурс: три четвертых, например. 15.10.01, Больяско. * * * По осени созревший небоскреб готов к уборке. Острый самолет садовник из джихада достает и сочный плод обрушивает вниз. И, рушась, плод марает небосвод огромной тучей пыли, спор и войн бушменов и усамых мусульман, и будь оно бинладно, это все, и будь они бинладны, эти все душмены, террорасты, харасмент отдельно взятых наций, стран и вер, политкорректный метагеноцид, сенаторы, командос, талибан, бомбардировки, шустрый NTV, букет гуманитарных катастроф, чума и язва в почте и в умах на ваши оба дома, оба два. 23.10.01, Milano. ВОРЧЛИВАЯ НОСТАЛЬГИАНА (тристефлексии, почти дневник)
Иосиф Бродский. Два часа в резервуаре I Мне грустно и легко, печать моя светла: исчерпан картридж, и, туманный кембридж, и зябка, и москва, но как свекла красна собою родина… В Докембрий, в моськву, в моськву! Нет, не как три, шустры – как сорок тысяч русопятых братьев, он мизерленд!, нах бутерлянд! Остры желания напялить зимних платьев и шастать меж сугробов и людей, внедряясь в плоть отчизны, словно клизма. Пусть разнаипоследнейший злодей, но я не чужд ура-патриотизма: первородной не обменяю квас на чечевидность мерзкой кока-колы. Отточество, ты снишься кожный раз, И го́рьки мне, горьки́ твои уколы. Мой биттерланд, как сладок горький дым отечности, пока его не чуешь… Но сон таким как я, немолодым, не в сон, когда не дома заночуешь. Все крутишься, не спится, все не так: не спица, так горошина в перине, из темноты ночной глазеет мрак, как будто спать приходится в витрине… Но я о хатерлянде. Снилась мне Мать-Родина-с-Малахова-Кургана. Она бетонным туловом ко мне прильнула, навалилась, ветерана – и чуть не задохнулся я во сне. У-у-у!, р-р-родина, у-у-у!, как ты мне мила своей отчизной, рыбьей головизной, своей зимой, весной, дороговизной и под/виагрой… Как твои дела? II Мои же итальяно, соно грато1; что ною – это нерви2: в двух шагах; марина3 так мила и пасседжата4 и так беллецца5, что ну просто ах! Здесь так больяско6! балуя желудок, плоть пестуя и генуя7 грехи, лигу ри я8 сказать, что мой рассудок во испупленье ссудит мне стихи? Пожалуй, нет. Стихи мои плохи́… Я забываю русский… Или пло́хи? Я не гожусь в свидетели эпохи. Раззудок мой холява жрет, как блохи, а sine cura9 хуже синекдохи10: сквозит и продувает сквозь прорехи, навроде душегрейки из дохи. Холява, сэр! Обжорство да компьютер, компьютер да обжорство – вот мой круг порочный – рая?.. ада?.. – бес попутал, сам не пойму. Вергилий! Где ты, друг? Но рядом никого. Один Верзилий. Верней, Верзувий. Кто же виноват, что результат мучительных усилий – Дерьмо. Дерьмо и разума распад. Рассудок мой застигнут на горячем, замазан и замечен (но с трудом) в делах предосудительных: он прячет концы в цитаты. Постмодерн. Дурдом. Распадок мой затиснут в узкий кембрик и подключен к разъему USB11 другим концом и был бы там закернен, когда б не страх сорвать его с резьбы. III Свечаль моя свекла и восковита, а ноутбук быстрей и гейтуей12, чем мой майсэлф, что Влада Аквавита13 уже почти перевела, и ей совсем немного от меня осталось перевести, но это интервью алитальяна все же лишь preview14 оригинала. Как же я привью его к подвою русскому? Вот жалость, вот недотыка, горе, диспьячере15! Ну как привить к российскому дьячку отросток римской папы, стройный черен? И приближая перевод к очку, я весь извелся, видя, как извод раздерганного вклочь оригинала срастался вкривь, являя свой испод, водою мертвой, как перегинала мой русский по складам ее рука нелегкая, что принесла победу к дымящимся руинам языка, прививши переводу ногтееду. IV (Как короед похож на перевода!) (Как много в короеде от урода, орудуемого со словарем!) (Какая это мертвая порода!) Когда-нибудь и мы с тобой умрем, но перевод – живой покойник сроду. Как все-таки черна и глубока дыра, что отделяет два народа, два, кажется, столь близких языка, две родственных культуры. Нету брода через неизмеримую дыру и нету перевозчика, похоже. Когда-нибудь и я совсем умру, но, я надеюсь, в подлиннике все же. Тогда меня переведет Харон через язык стоячей мертвой Леты. Но я б хотел дожить до похорон на языке живом, а не на этом. Нет, Хайдеггер был прав, когда сказал, что философский корпус древних греков, переведясь на римский, исказил картину мира. Сунешь руку в реку – а рак уж тут как тут. Его клешни – метафоры, лакуны, метастазы – кромсают смысл. Мы в этом все грешны, мы все подряд – разносчики заразы, носители культуры “Вавилон”. В нас угнездился этот страшный вирус, уродующий смыслы. Это он, рак, поразивший мыслящий папирус. V Печаль моя стекла, и мозговито я сел писать: “Печаль моя стекла прозрачнее…”. Цитаты сопрофита, когда не паразита. Тяжела чугунная десница постмодерна, печален жребий мой: ярлык, жетон, лейбл, этикетка, пустула, каверна, Холява, сэр! Холява да центон. Тяжелыми шагами командора Смерть Автора идет на званый пир, “пирдуха”, как сказал поэт16. Аллора17, блажен ли тот, кто посетил сей мир в минуты постмодерна роковые, в эпоху бздуновения чумы, холеры, мозговой дизентерии на наши развращенные умы? Не слезть со стульчака клавиатуры. Мучительный понос чужих словес, отходы обожравшейся культуры, утильсырье, идущее на вес, поэзия, идущая на убыль, в распыл, в разнос, на вынос, на ущерб. На полку впору класть стихи ли, зубы ль, но не позорить цеха славный герб. У бездны мрачной на краю для вида лишь постоять? Или подать пример? Смерть Автора страшнее суицида, халтура смертоноснее холер, а языки длиннее пистолета, культурой поднесенного к виску несчастного поэта. Геббельс, где ты? Пора палить по метаязыку! VI Печаль мою свезло, и кособрюхо она отвисла в сторону нытья. Да, пессимист, да, жалкий нытик я, да, маловер. Всё протори, проруха, утруска да провес, усушка, гниль, лакуны, пересортица, все карсты, цезуры, сбои ритма. Миттельштиль а меддзоджорно18. Где найти лекарство от русской ностальгической хандры? В отличие от остеохондроза, не лечится она. Больная Ры торчит в мозгу, как вянущая роза, как Никонова, стонет и кричит, зовет домой, обратно, блудным сыном, упитанным тельцом… Многоочит и долгорук извод российский сплина. Ну, да, ну, да, страна моя странна, но суть ее светла и самовита, и оттого пищаль моя стройна, как перевод свеклы на аквавита19, как железнодорожный перегон Иркутск-Решоты и как Евтушенко его “Зимой”, как травка эстрагон, добавленная в русский самогон, такой прекрасный и несовершенный. И оттого ночами я не сплю, пишу, курю, трещу клавиатурой, что по ночам я родину люблю всей русскою еврейскою натурой. VII Печаль моя спеклась от этих вахт, и полон портаченере20 окурков, как Портофино21 – белоснежных яхт, катающих зажравшихся придурков. Одна из них, прекрасная, как плод любви двух яхт, приписана в Нассау, огромна, как былой линкор “Бреслау” и на борту имеет вертолет. И я подумал, глядя на нее: “Люблю тебя, немытая Россия, любовь моя интимна, некрасива, как грязное исподнее белье. Люблю тебя, как спившуюся мать, люблю твой интерес кровавый к лире и надпись в переделкинском сортире: "Убедительная просьба черновики рукописей в унитаз не бросать". Люблю державный твой наряд и вид, и шовинизм, и мертвые деревни, твой алкогольный автогеноцид и срать повсюду твой обычай древний. Люблю лицо приезжее твое твоей национальности кавказской (уезжее еврейской). Всех кацо встречаешь ты с любовью и опаской, обнюхивая каждый чемодан: не пахнут ли лимоны гексагеном? Но если пахнут – впустишь завсегда, приняв на лапу. Это в наших генах. Люблю тебя, страна новогоспод, новорабов и президентов странных. Любви моей немыслим перевод ни на один язык из иностранных.” VIII Печаль моя ветла промеж берез, плакучая над родинкою ива, печаль моя и липа, и плаксива. Ныть, но не ехать – это некрасиво, но не иссякла консульская ксива, не кончился шенгенский мой наркоз, и я в своей печали не спешу ступить в твои развесистые сени осенних клюкв. Бумажками шуршу, как мышь в углу Италии, спасенья ищу в автоматическом письме, катарсиса22 в бессмысленной работе. Единственный один мотив в уме застрял, как PC card в разбухшем слоте: про “Едет, едет Вася…”23. Про меня. Я про себя бубню его все время. Не едет Вася. Вася променял свой рупь любви к отечеству как теме на лиру итальянскую. Но все ж о родине душа его рыдает, тем паче, что курс лиры нехорош, а рупь неторопливо увядает и опадает медленно, шурша и кажется почти совсем зеленым под лупой 30х. И вот душа все рвется, трепеща, меж отдаленным Рублёва отчим домом и страной лирической, пеналом Кватроченто. А между тем мой русский, мой родной все копит итальянское accento24, и пепел portacenere25. Бензин кончается в любимой accendino26. Basilio non và27. Он блудный сын, упитанный телец, парричидина28. IX Пить чай еще светло, а пить caffè 29 уже темно. Что ль пожевать focаccia30 с vitello freddo31?.. На такой строфе завязывать бы впору. Но пока что меня несет мой Pegaso32, Пегаш, гибрид ахалтекинца с першероном и стрекозой. Ему на вид не дашь его годков. Он прет неугомонно, его подков по лысой мостовой гремит тяжелозвонкое скаканье и по ночам. С разбитой головой с утра с одра слезаю. Блин, исканья, порывы, муки творчества! Навоз из stalle d`Augia33 я не поспеваю вытаскивать за ним. Сведу в колхоз! На бойню! В живодерню! Я зеваю, поганый рот крещу и матерюсь, калган трещит, как сорок тысяч братьев сорочьих на кагале их. О, Русь, куда ты мчишься по башке? Проклятье! Твой красный конь купается в крови, твой бледный конь бредет к Армагеддону, твой бедный сын валяется в траве, сродни употребленному гондону. Зачем, о Русь, мне этот божий дар данайский, этот конь в пальто троянский, в буденновцы зачем полужида, определила ты? Самой неясно? Зачем охлюпкой трюхать мне опять в ночное?.. Слышишь?.. Слышишь?.. Нет ответа. И почему я должен с Музой спать?.. X – А потому, что с ней не надо света, – доносится с восточной стороны, – а свет, вестимо, надо экономить. Не хочешь с этой в качестве жены – могу тебя с другою познакомить, но помни: экономика должна быть экономной. Свет не жги напрасно. Поэзия – законная жена, с ней свет не нужен, как с чужою, ясно? Куда ж ясней! Куда ж я с ней, с женой? Опять в постель, опять плодить ублюдков? Я б изменил ей с грацией иной, что помоложе и без предрассудков – к примеру, с Фотошопой34, с Корелдро35 или с прекраснобедрой Кваркэкспрессой36: ее прекраснобедрое бедро пылает пылом юного прогресса, суля такие поссибилита37, такую смену поз и положений… Что по сравненью с ними суета супружеских заученных движений! Все ямб да ямб, да изредка хорей, анапест, в долгих паузах – гекзаметр, а то верлибр. Но я, полуеврей, устал который раз сдавать экзамен на аттестат, который перезрел, обмяк, обвис и не свалился с ветки лишь оттого, что сроки наших дел привыкли мы считать на пятилетки. Размер совка – в супружестве, в любви, в поэзии… Как им писать сонеты?.. (поговорить о странностях любви, превратностях и сладостных приметах, изустных описаниях миньета, перверзиях и прочих “се ля ви”?) Но я кричу уже в который раз: – О, Гусь Хрустальная, вся в яблоках на Спаса, О светлый Криштальнахт, Сандея русских рас и наций! Только крикни мне: “Алас!” или “Атас!” – я отзову Пегаса, я прибегу – в слезах, в соплях, в крови… “Даешь в три года?!” – “Раз: а больше нету.” “Даешь?!” – “Отстань!” И сколько ни зови: “Даешь ответ!?”… – XI Нет, не дает ответа. сентябрь-октябрь 2001 г., Италия _________________________ 1 Sono grato [со́но гра́то] – я благодарен (итал.). 2 Nervi [Нэ́рви] – городок, в сущности, пригород Генуи (см. прим. 7), за которым начинается Больяско (см. прим. 6). 3 Marina [мари́на] – морское побережье (итал.). 4 Passeggiata [пассэджа́та] – прогулочная дорожка (итал.). Речь идет о восхитительной пасседжате в Нэрви (см. прим. 2), километра два вьющейся над обрывистым берегом моря. 5 Bellezza [бэллэ́цца] – а. красота, прелесть; б. красотка (итал.). 6 Bogliasco [Болья́ско] – маленький городок (коммуна) между Генуей (см. прим. 7) и мысом Портофино (см. прим. 21), где я провел полторы недели в 2000 и пять недель в 2001 году . 7 Genova (Генуя; правильно, по-итальянски произносится как “Джэ́нова”) – столица области Лигурия (см. прим. 8). 8 Liguria [Лигу́риа] – Лигурия, область в Северной Италии, на побережье Лигурийского моря. Площадь 5413 км2. Население 1882 тыс. человек (1970). Включает провинции: Генуя, Империя, Специя, Савона. Главный город – Генуя*. Около 2/3 терр. Л. занимают Лигурийские Апеннины (на С. и В.) и отроги Приморских Альп (на З.). Горы местами подходят к берегу и круто обрываются к морю; побережье сильно изрезано, на остальной территории преобладает холмистый рельеф. Открытая к морю и защищённая с С. горами, прибрежная часть Л. обладает мягким ровным климатом и известна своими климатическими курортами (Рапалло, Нерви**, Сан-Ремо и др.) [БСЭ]. 9 Sine cura [си́нэ ку́ра] – букв.: без заботы (итал.). 10 Сине́кдохи: и с греческим огрехи, не только с русским; за мои грехи когда-нибудь мне будет на орехи: язык суров, а мне бы все хи-хи. 11 USB (Universal Serial Bus) (англ.) – кабельная шина, обеспечивающая высокоскоростной обмен данными между хост-системой (центральным процессором) и периферийными устройствами компьютера. 12 Gateway [Гэйтуэ́й] (англ.) – название фирмы-производителя моего ноутбука; благообразно увядающий брэнднейм. 13 Vlada Acquavita (Вла́да Аквави́та) – италоязычная поэтесса из города Буйе*** (Истрия, Хорватия); по ее инициативе было затеяно мое интервью для итальянского сайта Fucine Mute (Фучи́нэ Му́тэ). Готовилось оно так: я написал все по-русски, Влада, ни аза не знающая ни по-русски, ни по-английски, переводила его на итальянский, а венгр Дьёрдь Рети, более-менее владеющий русским и итальянским, служил языковым посредником между мной и Владой. Можно себе представить, что из этого получилось. О том дальше и речь. 14 Prevew [превью́] (англ.) – здесь: грубая миниатюрная экранная копия документа или изображения (например, оцифрованной фотографии), используемая для предварительного просмотра в компьютерных и интернет-технологиях. 15 Dispiacere [диспьячэ́рэ] – горе, неприятность (итал.). 16 Сева**** припечатал, а Вова***** перепечатал. 17 Allora [алло́ра] – здесь: ну; итак (итал.). 18 A mezzogiorno [а мэддзоджьо́рно] – в полдень (итал.). 19 Водка (от лат. acqua vitae [а́ква ви́та]; ср. тж. польск. “оковита”) 20 Portacenere (портачэ́нэрэ) – пепельница (итал.). 21 Portofino (Портофи́но) – мыс на побережье Генуэзского залива, пожалуй, самый шикарный курорт для богатеньких на севере Италии. 22 Вообще-то, конечно, ка́тарсиса (см. также прим. 10). 23 См. Александр Левин'97. Французский кролик. Levin@Home Studio, 1997. 24 Accento [аччэ́нто] – акцент (итал.). 25 См. прим. 20. 26 Accendino [аччэнди́но] – зажигалка. 27 Basilio non vа [Бази́лио нон ва́] – Василий не едет (итал.). 28 От “parricida” [парричи́да] – предатель родины; убийца отца, матери, сына – по отдельности или всех вместе (итал.). Здесь я пишу слово “парричиди́на” именно кириллицей со специальным удовольствием. Из-за этого возникает забавный семантический казус: в итальянском суффикс -ina придает слову уменьшительно-ласкательный оценочный смысл, “parricidina” – это получается что-то вроде “предателёк” или “отцеубивчик”; в русской же грамматике суффикс -ин придает слову значение увеличительности, усиления, и написанное русскими буквами “парричидина” для (русского же) глаза воспринимается автоматически скорее как “предателюга”, “отцеубоище” – разумеется, если владелец русского глаза знает смысл итальянского слова “parricida”. 29 Caffè [каффэ́] – кофе (итал.). 30 Focaccia [фока́чча] – жирная солоноватая пшеничная лепешка, выпекаемая на севере Италии. 31 Vitello freddo [витэ́лло фрэ́ддо] – холодная телятина (итал.). 32 Pegaso [Пэ́гасо] – Пегас (итал.). 33 Stalle d'Augia [ста́ллэ д`А́уджьа] – авгиевы конюшни (итал.). 34 PhotoShop™ [Фотошо́п] – программный пакет компьютерной обработки битовой графики. 35 CoralDRAW™ [Ко́рэл Дро] – программный пакет компьютерной обработки векторной графики. 36 QuarkXPress™ [Кварк Экспре́сс] – программный пакет компьютерной верстки. 37 Possibilitа [поссибилита́] – возможности (итал.). Примечания к примечаниям: *) см. прим. 7. **) см. прим. 2. ***) “…А в городе Буйе мы обнаруживаем улицу Максима Горького, причем надпись на табличке уточняет – "писяк"...” (см. http://www.domovoy.ru/0105/travel/travel1.asp) ****) Сева – это такая эпоха (не путать с эпохой Сёва, 1926-1989, в отличие от которой она не только не кончилась, но, скорее всего, и не кончится) по имени Всеволод Николаевич Некрасов. *****) Вова – это такой писяк (см. ***) по имени Владимир Яковлевич Строчков, кто не знает. * * * Где сколько сможешь воздуха набрав, откаркаешь клокочущую плеву – и снова дышишь, хрипом смерть поправ. Но даже если ты по жизни прав, пора налево, и шею, как цыпленок табака, сворачивая за угол, за локоть, признай, что жизнь что шея коротка, а потянуть еще наверняка, поди, неплохо. Похоже, Иже есть на небеси – но, ижицей нанизанный нелепо, на вертеле, на жизни, на оси вися, не верь, не бойся, не проси, гляди на небо, хватай губами строчек шепоток, густое, неостуженное брашно. Ворованого воздуха глоток отдать на разграбленье и поток почти не страшно, но страшен воздух, вязкий, словно мед, некислород, вползающий по капле в траншеи сквозь сенильно-горький рот того, кто думал, Чтоже, не умрет, соскочит как-то. Соскочишь – но с подножки, не с крючка: вдох воздуха – и следом выход духа. Разинув рот подобием очка, Егоже, тьме, сходящей с потолка, шепни на ухо. Ты и теперь глядишь в ее глаза. Пока не спишут оперу на мыло, пиши что мог бы, но не мог сказать. Когда же Всёже спросит за базар, ответишь: было. Хватая ртом, как рыба на мели, и засыпая, как живая рыба, за жизнь, где воздух сделан из земли, и душит, Даже, скрип дверной петли, скажи спасибо. О возрасте скажи – уже хорош, о воздухе – что, Тоже, не хватало. Считай в своем уме, что ни за грош, а не в своем надеясь, что найдешь, пиши пропало. 23.11.01, Москва. |
|||||||||||||||||||